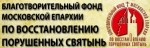Отпевание будет совершено 25 марта в Екатерининском мужском монастыре города Видное. Начало Божественной Литургии в 9:00 часов. По окончании -Панихида, затем — отпевание.
 22 марта сего 2017 года умерла наша мама. Урождённая Валентина Алексеевна Баранова, в замужестве Недосекина, в постриге монахиня Валентина. Жизнь её была чудной. Она отчётливо видела знаки Промысла Божия. Воспитав нас, шестерых своих детей, ныне трех жён священников, двух иереев и одного епископа, она неуклонно шла по жизни, руководствуясь чёткими принципами — страхом Божиим и верою в Его благой Промысл. Она искренне считала, что, потеряв эти главные ориентиры жизни, человек приходит к малоумию.
22 марта сего 2017 года умерла наша мама. Урождённая Валентина Алексеевна Баранова, в замужестве Недосекина, в постриге монахиня Валентина. Жизнь её была чудной. Она отчётливо видела знаки Промысла Божия. Воспитав нас, шестерых своих детей, ныне трех жён священников, двух иереев и одного епископа, она неуклонно шла по жизни, руководствуясь чёткими принципами — страхом Божиим и верою в Его благой Промысл. Она искренне считала, что, потеряв эти главные ориентиры жизни, человек приходит к малоумию.
Теперь, когда её уста умолкли, я посчитал важным поделиться с братьями и сестрами по вере одним назидательным случаем из ее жизни, хотя, безусловно, таковых, по милости Божией, в ее жизни было немало.
***
Это необычная история случилась в 1976 году. Она выходит из рамок повседневного, представляемого мира. Вообще это чудо, трудное для понимания, требует размышления и призывает к перемене жизни. Таких случаев «просто так» не бывает. Если у кого что-то подобное и случается, то оно, как правило, изменяет жизнь не только самого этого человека, но и тех, кто с этим соприкоснулся. Ответа на это чудо я не могу найти до сих пор. Может быть, это откроется потом, Бог знает, но то, что здесь есть какой-то громадный смысл, совершенно очевидно.
Всё началось весьма тривиально.
У мамы над левой бровью возникло покраснение. Что-то красное и припухшее. День ото дня эта зона стала увеличиваться. Не было ни боли, ни зуда — просто красное пятно с припухлостью. Постепенно оно покрыло весь лоб и половину лица. Потом всё лицо и шею. Затем стало опускаться по левой руке к локтю.
С момента появления и до такого обширного разрастания прошло месяца полтора. Мама ходила к кожнику, к специалисту по аллергиям. Диагноз поставить никто не мог. Мы жили в Загорске, отец служил в Гребнево. Всё лето мы проводили на приходе — там природа, пруд, воздух. Но на зиму возвращались в Загорск. Маме становилось всё хуже и хуже. Припухлость начала увеличиваться и слегка кровоточить, как если бы кожу долго раздражали каким-нибудь суровым или ворсистым предметом, или же она претерпела химический ожог. Глаза постепенно сузились до щёлочек, лицо заплыло и покраснело.
Ездили в Москву на консультации к разным светилам. Диагноза поставить никто не мог. Один знакомый семьи, заведующий большим медицинским научно-исследовательским институтом, баптист по вероисповеданию, предложил остаться в институте для изучения заболевания, так как оно оказалось уникальным, наука пока с ним ещё не встречалась. «Правда, — сказал он, — когда я ещё учился в институте, мы проходили что-то в разделе тропических болезней, но всё же то, что я вижу здесь, лишь очень отдалённо напоминает те болезни».
Мой духовник, увидев маму в самом начале болезни, сразу сказал: «Ой-ой-ой, матушка, вам ведь на смерть “сделано”!» Велел молиться нам всем — отцу, детям, близким, подать в монастыри, храмы, чтобы везде поминали болящую Валентину.
Осенью мама стала чувствовать себя очень плохо. Уставала, часто садилась. Говорила, что душа её страдает, у неё угнетённое состояние.
Пришёл Новый год, грустный и безрадостный. Потом Рождество Христово. Лицо мамы стало неузнаваемым — всё распухшее, с кровоточащими трещинами, глаза как щёлочки, шея красная. Наступил Великий пост. Мама иногда говорила: «Как вы без меня будете жить?» Просила молитв о здравии. Молились все знакомые, молился духовник, молились отцы в Лавре, в Псково-Печерском монастыре, на приходах.
Глаза у мамы стали совсем заплывать. Теперь, чтобы ясно что-то разглядеть, она пальцами раскрывала себе глаза.
Отец неделями служил на приходе. Мы целыми днями пропадали на занятиях. Я учился в Абрамцево, в художественном училище, куда мне на электричке нужно было добираться всего 15 минут. Сестра со старшим братом также ездили на электричке в Москву.
Маме стало тяжело жить одной. Она попросилась к отцу. Поговорив с нами и поняв, что мы уже большие и не заморим младшую сестру голодом, она на Крестопоклонной уехала с отцом в Гребнево.
Наступила Страстная седмица, потом Пасха. Мы продолжали учиться. Мне до Гребнева ехать было дальше всех. Брат же иногда возвращался из Москвы не в Загорск, а на приход к отцу, чтобы, переночевав, утром опять уезжать в столицу. Подходила Антипасха.
На этих выходных брат в Загорск не приехал, а был на приходе у родителей. В понедельник вечером, он, вернувшись с учёбы, сказал мне, что мама просит меня приехать к ней завтра после занятий. Я, возможно, и не послушал бы, но в его поведении было что-то странное: он ходил молчаливый и сосредоточенный, перестал шутить, был какой-то весь в себе.
На следующий день после обеда я зашёл в родительский дом. Здесь ничего не изменилось. Только у мамы лицо немного «обвисло». Так бывает с кожей людей, которые очень быстро худеют. Глаза по-прежнему оставались щёлочками, но вся красная припухлость пожухла и висела под своим собственным весом. Вечер прошёл спокойно. Я рассказал об учёбе, о доме в Загорске. Утром позавтракал, мама покормила меня на дорогу. И когда я уже собрался уходить и стоял в дверях, мама как-то нерешительно ко мне обратилась:
— Подожди, Павел. Я должна тебе кое-то показать. Только ты не бойся. Вернись, сядь и успокойся.
Сказала она это таким сосредоточенным голосом, что меня взволновала. Я сразу понял, что на автобус бежать уже не придётся, разделся и сел.
Она отошла немного и стала закатывать до локтя сорочку на своей правой руке. То, что мне открылось, не поддаётся осмыслению. Меня как будто током ударило.
На внешней стороне руки, если её согнуть в локте, подняв при этом ладонь вверх, из тех же самых кровоточащих язв, которыми было покрыто её лицо, было чётко видно изображение Креста на Голгофе, а внизу под ним — два знака, написанных на непонятном языке. Я не мог произнести ни одного слова, молча сидел и таращился на увиденное…
Руки у мамы были полные. На изгибе локтя, на плоском участке кожи шириной около 16-18 сантиметров, одной линией толщиной c палец был нарисован крест: Голгофа в виде ступенек и из неё вырастающий крест, высотой чуть более 20 сантиметров.
Мама стала говорить ровным голосом:
— Не знаю, к чему этот знак: может, я скоро умру, а может, Господь помиловал меня. Явился этот крест в пасхальную ночь, когда отец ушёл на службу. Уже две недели я была совсем как слепая. Всё заплыло, глаза ничего не видели. Всё делала на ощупь — не будешь же всё время глаза пальцами разлеплять. Я помолилась, погоревала, что не могу теперь и в храм Божий пойти в такую ночь, и стала ложиться спать. Сняла платье, осталась в ночной рубашке с голыми руками и решила подойти к зеркалу открыть глаза, чтобы посмотреть, что со мной стало. Как только глаза открыла, то тут же и увидела этот крест на руке, которая была повёрнута к зеркалу. Сначала заплакала — думала: «Всё, отжила». Но потом успокоилась. Зачем-то ведь Господь показал мне этот знак. Теперь уже скоро неделя. Видишь: всё стало подсыхать да опадать. Господь милостив! Вы, мои дети, должны это видеть, чтобы делать выводы, чтобы не грешить. Я сначала боялась даже вам это показывать. Но потом, поговорив с отцом, мы решили, что вы должны об этом знать.
Для меня это было полным потрясением. Теперь я каждую неделю приезжал к родителям и наблюдал, как уходила припухлость. Мама показала этот крест и некоторым своим близким. Все недоумевали и как-то менялись в своей жизни. Недели через две она сказала отцу, что ей надо поехать в Москву к тому самому знакомому доктору, учёному-баптисту: «Пусть он увидит, — говорила мама, — это будет для него как проповедь Православия». И действительно, когда доктор увидел крест, он сказал:
— Не показывайте, пожалуйста, никому. Вас могут объявить сумасшедшей. Скажут: «Сама, фанатичка, кислотой прожгла». Ведь я-то видел, как это всё начиналось, а другие нет. Будем молиться друг за друга. Поразительно — ведь это изображение креста…
Отец перенёс изображение креста через кальку на бумагу. О фотоаппарате тогда почему-то никто не вспомнил, да и не были они ещё в таком употреблении. Не всякий мог возиться с плёнкой и бумагой.
В день Вознесения Господня кожа у мамы на лице обновилась. Это можно было увидеть и на том месте, где был крест. Теперь он выделялся более светлым оттенком, чем вся рука. С лица, шеи и рук припухлость совсем исчезла. А изображение креста из молодой кожи можно было различить до Троицы. После дня Пятидесятницы от маминой болезни не осталось никаких следов.
Шли годы. Я закончил художественное училище, сходил в армию, отучился в семинарии, академии и университете, был рукоположен во иерея и отправлен служить в Бельгию, где, по послушанию священноначалия, мне было велено опять учиться — теперь уже в католическом Лувенском университете. Все мои сокурсники были либо священниками, либо монахами Латинской церкви. В числе прочего мы проходили целый цикл лекций, посвящённый стигматам, на котором я рассказал свою историю. Люди восприняли её по-разному: кто-то поверил, кто-то засомневался. Мне же было непонятно: «Ну, крест — ясно. А знаки-то эти зачем, что они значат? И что это за язык? И почему надо было исцелить маму и оставить два этих знака?»
Однажды, приехав в Россию в отпуск, я попросил маму дать мне ту бумагу с изображением креста. Сделав с нее фотокопию, я решил узнать, что это за знаки. Показывал их в Лувене профессорам, обращался в Институт ориенталистики. Мне посоветовали обратиться в отдел палеографии. Эта наука занимается изучением изменения написания букв в истории.
Однажды я обратился к одному монаху-бенедиктинцу, профессору древних семитских языков, который, отработав стаж, уходил на пенсию. Я показал ему изображение знаков, закрыв при этом крест.
— Что это? — спросил я. — Как бы вы могли это прочитать?
Увидев изображения, он с улыбкой взял меня за плечо и сказал:
— Брат Павел, как только я скажу тебе, что это значит, ты сразу всё поймешь. Просто это должно прозвучать на понятном тебе языке. Это две буквы староеврейского алфавита, как они писались в период до Первого храма. Впервые в таком начертании мы встречаем их в Ниневии в IX веке до Рождества Христова, через два столетия они входят во всеобщее употребление и встречаются в таком написании вплоть до Пришествия Христа. Ты ведь греческий учил?
— Да.
— Так вот, когда Апостол Иоанн Богослов на острове Патмос писал свой Апокалипсис (а он был еврей, и греческий для него был вторым языком), он две этих буквы староеврейского алфавита — первую Алеф и последнюю Тав — перевёл на греческий как «Альфа и Омега». Для нас, христиан, это, можно сказать, личная печать Бога:
«Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь» (Откр. 1:8).
 После исцеления мама прожила ещё 41 год и отошла ко Господу на этой Крестопоклонной неделе.
После исцеления мама прожила ещё 41 год и отошла ко Господу на этой Крестопоклонной неделе.
Протоиерей Павел Недосекин 25.03.2017